 193
193 
Говорят, заведует он там складом ГСМ или по интендантской службе пошел в родственном нам крохотном сибирском гарнизоне. Стал толстым и сильно изменился, только голос остался таким же звучным и красивым. Первые два года выписывал журнал «Театр», а потом что-то перестал. «Союзпечать» там плохо работает, с перебоями, особенно зимой.
Но это все было не сразу. Это все было потом.
А в тот вечер я зашел после отбоя в туалет и увидел на подоконнике зёму — Сеньку Швырина, выцеловывавшего замусоленный «бычок», источавший дистрофическую пародию дыма. Сеня наблюдал, как два салабона драят щетками с мылом его «хэбэ».
— Зёма, ё-моё, наконец-то!!! — Мы заржали и обнялись.
Зёма был рад до невозможности и журчал игривым ручейком так бурно, будто боялся, что я открою рот и простужусь.
Я втиснулся на подоконник рядом с ним, упершись затылком в холодное весеннее стекло, и тихонько думал себе, что вот сейчас пойду прямо спать и буду спать, и все, вот так вот… А зёма сыпал новостями: что писем нет, еще напишут, что на ужин — рыба, что послезавтра опять к генералу, но уже на похороны, что познакомился зёма с соской — такая шмара, и гхых! На руке — наколка, и подруга у ней есть — Фикса, вот такой вот передок, следующее увольнение наши будут, зуб даю, э, даты спишь?
Я сидел и сладко моргал глазами, закутанный в байковое одеяло дремоты, и все было тихо и тепло. Пыжиков брился перед зеркалом, прислушиваясь к нашему разговору, и улыбаясь порой, и забавно морщась, когда водил станком по впалым щекам. Потом он тер покрасневшее лицо одеколоном «Саша», и зёма сказал, что если бухать, то лучше всего одеколон «Эллада». И надо бы нам отметить наше возвращение, а то ведь бухали последний раз аж 23 февраля, когда, помнишь, зёма, Чана надел на себя одеяло, подходит к дежурному по части и — гхы! гхы! — говорит: «Вставай — будем спать!» Гхы-гых… А тот ему…
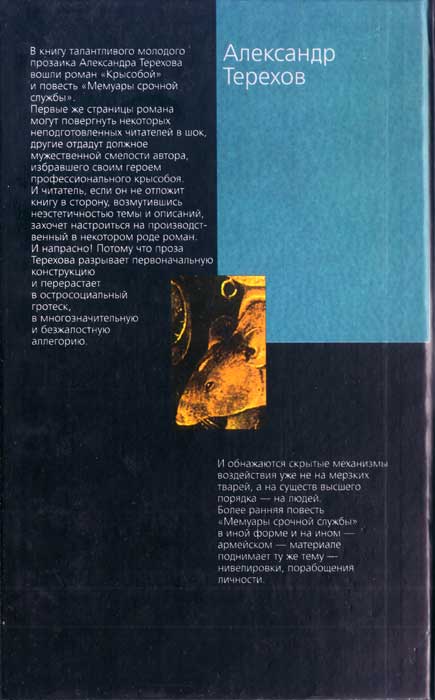
 193
193 
